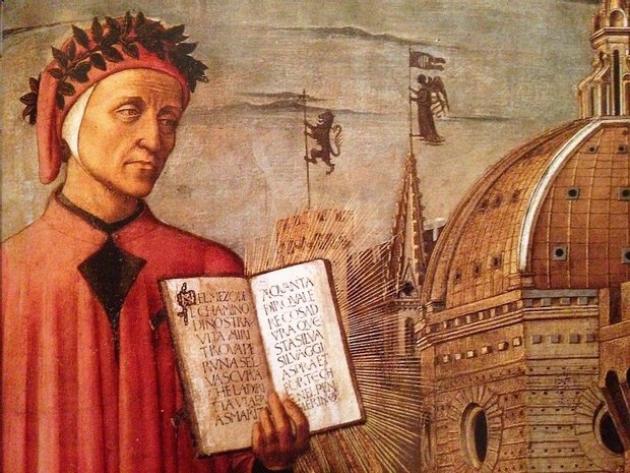Движение сердца
Вопросы о Данте. Продолжение. «Где я предаю себя?».
Почему ты не жил?
Пожалуй, одно из первых ошеломительных открытий, которое предстоит сделать современному читателю «Божественной комедии», заключается в том, что «Ад» у Данте начинается с картины мучения людей, на первый взгляд, ни в чём не повинных. То есть они вообще никаких преступлений не совершили, но истязания их поистине ужасны. Возникает вопрос: как это возможно? Не сделать ничего плохого и обречь себя на вечные муки?
Ответ один, и состоит он в том, что ад — это не наказание. В VIII песни мы узнаём, что за высокой оградой в окружении крутых рвов охраняется огненный город Дит. Удивительно! Ад нужно охранять, чтобы туда случайно никто не зашёл. Потому что именно там, за этими стенами, охраняется тайна ада.
В чём она состоит? Люди относятся к аду как к наказанию, которого надо по возможности избежать. Дескать, я делаю какое-то зло, конечно же, оправдываю себя при этом как-нибудь — что вынужден так поступить или что это зло во благо и у меня другого выбора не было — а в конце жизни стоически соглашаюсь на то место, куда меня отправит Бог.
Всё совсем не так, и тайна ада заключается в том, что зло прежде всего разрушает меня самого. И не когда-нибудь потом, в загробной жизни, но в тот самый момент, когда я его совершаю. Поэтому искорёженность человеческих тел в аду — всего лишь фиксация тех ужасных состояний, в которые человек попадает, когда творит зло. Нельзя сделать зло, а быть за него наказанным потом, после смерти. Наказание — в том, что зло прямо сейчас меняет тебя до неузнаваемости.
Но эти люди, которых видит Данте у порога преисподней, оказываются недостойны даже ада, «и пропасть ада их не принимает». Что с ними происходит? Ничего особенного: комарики кусают, и они просто бегают, совершают бессмысленные движения, хоть и естественные. Носятся за каким-то флагом — неизвестной партии, наверное.
То есть Данте фиксирует жизнь человека, который говорит, что главное — ничего плохого не делать, жить, как все. Дни у таких людей проходят в «простых движениях». Бежать за бессмысленной целью, нести её перед собой как флаг. И при этом заявлять: «Я отказываюсь от жизни во имя чего-то». Обязательно нужна идея жертвенности, пусть и насквозь ложная, но которая тебя оправдывает. «Почему ты не жил?» — «Я жертвовал своей жизнью!»
Данте рисует страшный образ такой жертвенности: человека жалят слепни и осы, он ковыряет раны, из них текут кровь и гной, и прямо у него под ногами его кровь и гной едят черви, они ведь тоже форма жизни. И кажется, что всё движется, жизни много. Но это пародия на жизнь, которую ведут люди, старающиеся ничего не нарушать. Расчёсывание своих ран и бег за ложной целью — вот что с ними на самом деле происходит.
Бог как праздник
Как возникает этот отказ от жизни? Чтобы его понять, необходимо обратиться к словарю Данте.
У него есть несколько слов, которые встречаются гораздо чаще других. Одно из самых распространённых — sguardo, что в переводе с итальянского означает «взгляд», «глаза», «открытие зрения». Таким же ключевым является для него слово desiderio — желание.
На самом деле это открытие итальянского педагога и моего учителя Франко Нембрини, который свою книгу так и назвал «Данте — поэт желания». Для нас необычно: почему христианский автор в качестве одного из важнейших слов своего словаря использует не «святость», «благочестие» или другие привычные понятия. Почему желание для него — ключ к человеческой судьбе? И как получается, что из следования за желанием прорастает вся структура мира: ад, чистилище и рай?
Нам кажется, когда речь идёт о желаниях, главная проблема жизни заключается в том, чтобы различать хорошие желания и плохие, хорошим следовать, а от плохих воздерживаться, и будет счастье. То есть мы связываем вопрос о счастье с нашей разборчивостью в желаниях.
Но поскольку современный человек не уверен в силе своей разборчивости, заканчивается это тем, что он предпочитает вообще не желать, чтобы случайно «не вляпаться». В результате мы видим вокруг анемичных людей, которые предают жизнь. Они готовы лучше не жить совсем, лишь бы не перепутать добрые желания и злые.
Мы думаем, это и есть суть христианства. Педагоги добавят, что это также суть педагогики. Тем не менее каждый, кто имеет дело с детьми, видит подвох в этой концепции. Нембрини вспоминал, как в детстве его всегда потрясала одна и та же вещь. В воскресной школе, куда его водила мама, одна монахиня делила мелом доску пополам и предлагала слева написать «Что хочу я», а справа «Что хочет от меня Христос». И будучи маленьким мальчиком, Нембрини ужасался, что между этими двумя списками зияла пропасть: «Того, что хочу я, явно не мог желать Христос, а то, что Он хотел от меня, если честно, мне не очень нравилось. Например, я хочу играть в футбол, но Христос, скорее всего, не большой фанат футбола». И так далее.
Нембрини говорит, что для ума и сердца маленького ребёнка представлялось катастрофой, до какой степени эти колонки не сходятся. Но его веру спасла мама, которая после литургии каждое воскресенье по дороге домой покупала ему мороженое. Это мороженое от мамы подарило ощущение, что встреча с Богом — всё-таки праздник.
Мы всё время играем в эту игру: нам чего-то хочется, но кажется, что Богу мы должны совершенно другое. Постепенно привыкаем к мысли, что быть с Богом значит делать то, что совсем не соответствует нашим желаниям. Поэтому с желаниями надо быть не только осторожными, но лучше их совсем уничтожить — чтобы как можно точнее понять наш долг перед Богом и ему следовать. Так люди отказываются жить — конечно, во имя Божие. Весь ужас в том, что среди этих безжизненных людей мы часто узнаём не только наших современников, но именно христиан.
Надо признать, что в настоящее время мы наблюдаем настоящий кризис желаний — когда человеку и желать нечего. Отсюда главная проблема педагогики — всепоглощающая скука. Пока мы выясняли, какие желания хорошие, а какие плохие, незаметно пришли к тому, что теперь трудно обнаружить у человека хоть какое-то желание. Мы как скульпторы без глины: что-то хотим лепить, а глины нет.
По сравнению с разрушительным действием скуки оказывается, что проблема разделения на хорошие и плохие желания теряет смысл. Давайте найдём хоть одно.
Обладать или служить
Данте утверждает: раз Бог создал этот мир, Сам им движет, и всё движение мира божественно, то желание, от которого приходит в движение человеческое сердце, — тоже от Бога. Это Он таким образом нас воздвигает. Причём не метафорически, а буквально. А значит, наше желание дышать или пить кофе, любить, познавать или добиваться справедливости, даже желание утром подняться с кровати — все они уходят корнями в Небо. Поэтому главный вопрос для Данте заключается в том, как, заметив в себе хотя бы малейшее желание, последовать за ним и добраться до Бога.
В латинском языке слова desiderio (желание) и sydera (звёзды) однокоренные. Данте использует это, чтобы донести мысль: не бывает такого человеческого желания, которое в самой своей малости не было бы связано со звёздами, с Божественным миром. Так, каждую кантику (одну из трёх частей поэмы) он заканчивает словом «звёзды». Всякая часть пути у него приводит к тому, что герои открывают связь со звёздами.
Если все желания сами по себе хороши, значит, это мы умудряемся делать с ними то, от чего рождается зло: грех, ошибка, остановка жизни. По Данте, зло появляется не потому, что существуют злые желания, а потому что к божественным желаниям мы относимся неподобающим образом. Господь в Евангелии сказал: Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления (Мф. 15, 19). В человеке всё может быть изуродовано настолько, что любое движение, как только возникает, тут же извращается, принимает ужасную форму. Но пока сердце живо, в нём возможно обращение, потому что Сам Бог постоянно пробивается в это сердце, в том числе с помощью желания.
Как можно испортить желание? Это делают не только злодеи, которые убивают, насилуют, грабят, но и мы все, когда стараемся присвоить то, что желанно. Нембрини в своём комментарии к русскому изданию книги Оскара Милоша «Мигель Маньяра» (о реальном прототипе Дона Жуана, который покаялся и стал святым) обратил внимание на то, что дьявол никогда не искушает отвратительными вещами. Нет, он предлагает нам прекрасное — красоту другого человека, например. Дьявол не дурак, он не говорит: делай зло. Наоборот, тебе обещаются достойные вещи — самые лучшие, самые красивые, божественные.
Есть известная средневековая метафора. Когда я вижу красоту цветка, у меня на выбор несколько вариантов. Первый — сорвать, зная, что цветок увянет и придётся его выбросить. Второй — вообще не трогать. Третий — сделать так, чтобы эта красота не просто расцвела, а привела тебя к Самому Богу. Как говорили древние: «Если красив цветок, то как же красив Тот, Кто его создал!» Для средневекового человека, и тем более христианина, — это самая естественная установка.
Что происходит, когда современный человек видит что-то благое, богатое, красивое, щедрое, ценное? Для него очевидны только две позиции: обладать этим или отказаться от обладания. «Если моё — беру, если не моё – не беру». Но в картине мира у Данте есть третья возможность: служить тому, что приводит тебя в движение. Эту готовность служения он называет целомудрием.
И здесь даже православные христиане попадают в ловушку. Казалось бы, разве не очевидно для них преимущество служения, а не обладания? Вся беда в том, что под целомудрием мы как раз привыкли понимать отказ от того, что тебе так хочется. А по поводу служения срабатывает стереотип, что «если буду служить, то не буду жить для себя». Так современная логика ставит нас перед псевдовыбором приоритетов — или я служу другим, или живу для себя.
Но Данте утверждает: «Нет! Именно когда я служу тому, что оживляет моё сердце, я сам раскрываюсь». То есть единственный способ жить для себя по-настоящему — это служить тому, что приводит меня в движение. И рекомендация для современного человека в устах Данте звучала бы так: «Если вы хотите быть счастливы, присмотритесь к своим желаниям». — «К каким именно, к хорошим или плохим?» — спрашиваем мы. А он отвечает: «Найдите то, что действительно приводит вас в движение, и следуйте за ним».
Тысяча ошибок
«Всё, я готов идти и служить!» — говорит читатель. Но проблема в том, что на этом пути, неслыханно прекрасном, каждый из нас совершает ошибки. Никто от них не застрахован. И именно с этим связана трусливость современного человека: «Может, лучше никуда не рыпаться, чтобы не наделать глупостей? Дорогой Данте, что ты предлагаешь?»
Наш ответ традиционен: найти святого, который тебя убережёт, духовника, который будет говорить, что делать и чего не делать. Но в глубине сердца каждый понимает, что, скорее всего, даже при идеальном духовнике всё равно обязательно наделает кучу ошибок. Тысячу ошибок!
Благая весть Данте заключается в том, что даже проживая бóльшую часть жизни не на высоте своих желаний, для Бога мы всё равно остаёмся драгоценнее, чем все наши мыслимые и немыслимые ошибки. Поэтому следом за «Адом» у Данте идёт «Чистилище» — по сути это развёрнутый ответ на вопрос Никодима Христу: Как может человек родиться, будучи стар? (Ин. 3, 4).
Как возможно, совершив мыслимые и немыслимые ошибки, снова стать живым? Если у нас нет ответа на этот вопрос, мы постоянно будем трусливы перед опасностью ошибки и в итоге окажемся парализованы.
Данте говорит: «Не бойтесь. Наши ошибки — это не конец нашей истории любви с Богом». Всё «Чистилище» про то, как мы начинаем жить заново. Эта часть, быть может, самая человечная, потому что посвящена вопросу о прощении. Но не о том прощении, когда я решаю, что делать с ошибками других людей или своими собственными, а об открытии того, что моя судьба для Бога значит гораздо больше, чем все мои ошибки.
Поэтому «Чистилище» — моя любимая часть.
Александр Филоненко